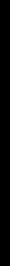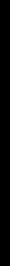 |

|
Джеймс Риз / Книга теней
|
| 28.05.2008, 23:30 |
 История моего детства, без всяких прикрас История моего детства, без всяких прикрас
Три главных его здания стояли на некотором расстоянии друг от друга и под прямым углом, образуя внутренний дворик, посреди которого высилась посвященная Святому Сердцу Иисусову стела; то были корпус Святой Урсулы — большой и какой-то бесформенный, где на втором этаже находилась зала, служившая для сестер-монахинь местом нечастых собраний; под нею размещались кухня и рефекторий, место монастырских трапез; наверху другого корпуса находился дормиторий, где мы спали, а под ним — кельи монахинь и классы для занятий с воспитанницами; там же располагались административные помещения и гостиная, в которой девицам дозволялось видеться с посетителями; третьим же корпусом являлась собственно монастырская церковь Пресвятой Девы Скоропослушницы, при которой имелись также сестринская капелла, главная зала библиотеки и несколько книгохранилищ поменьше. За церковью виднелись коровник с конюшнями, а еще дальше — кладбище, где без лишней суеты, по-домашнему, хоронили усопших обитательниц монастыря. Еще в нем имелись прачечная, голубятня, плотницкая мастерская и кузница — да еще одно здание под названием «флигель», которое простояло пустым и бесхозным все двенадцать лет, что я провела в С***. Заборчик из выбеленного штакетника ограничивал ту внутреннюю часть монастырского пространства, где нам, воспитанницам, надлежало пребывать, и мы, выходя на прогулку, дважды в день собирались гурьбой, обступив Святое Сердце. Младшие девочки составляли круг внутренний; они стояли так близко, что могли хорошо различать само алое сердце, задрапированное мраморными складками Христовых одеяний. Если погода благоприятствовала, мы подолгу оставались во дворе, окружая вот так Святое Сердце; мы стояли подбоченившись и выделывались так и эдак, выгибая талию, принимая всякие позы, но всегда тщательно следили за тем, чтобы по крайней мере одною ногой стоять на земле твердо, потому что именно так пристало вести себя «благовоспитанным девицам». Зимою же мы обычно толпились под укрытием галерей, где предавались вволю тем же гимнастическим упражнениям, то есть изгибались и потягивались. При этом я всегда старалась держаться с краю, поближе к кухне: а вдруг сестре Бригитте понадобятся мои услуги?
Дело в том, что я единственная воспитывалась за монастырский кошт, и мне приходилось работать за свое содержание. Обычно на кухне, иногда в прачечной или в саду. Правда, за младших воспитанниц отвечала сестра Исидора, а старшими занималась сестра Клер де Сазильи (а те, в свою очередь, подчинялись матери-настоятельнице Марии-дез-Анжес), но я-то хорошо понимала, кто мой главный начальник: старенькая, немощная сестра Бригитта. Я любила ее; она была ко мне добра. Еще ко мне по-доброму относилась Мария-Эдита, приходящая работница, с которой я познакомилась вскоре по прибытии в С***; она была из деревни и трижды в неделю помогала нам стряпать; кроме того, делала для монастыря всяческие покупки, потому что сестры-монахини вообще относились ко всему мирскому с подозрением, ну а к любой коммерции и подавно. Кстати, впоследствии именно я, позанимавшись с нею в своей каморке у кухни, научила бедняжку читать… Ах да, я ведь еще не сказала, что по просьбе сестры Бригитты меня поселили отдельно от прочих, но я и не думала возражать. Правда, возражала сестра Маргарита, ключница: ей пришлось пожертвовать не только кладовкой, но и выкопанным под ней погребом, потолок которого служил мне полом. В комнатушке, зимою холодной, а летом сырой, по стенам вечно стекали капли, но мне она подходила. Там я была предоставлена самой себе, а свободу я уже тогда научилась ценить превыше всего. Ко мне никогда не приходили послушницы и не могли увидеть, что я сплю, подложив Библию под подушку. Никто никогда не будил меня на рассвете грубым окриком. Свеча, горевшая ночь напролет, ни разу не привлекла ничьего внимания. И наконец, еще одно счастье: сразу за дверью кухни был водовод, из которого я брала воду, чтобы, как следует запершись у себя в комнатушке, принять ванну.
Жизнь моя вовсе не сводилась к работе, окупающей мое содержание в монастыре, — хотя знали бы вы, сколько мне довелось перечистить картошки, перебрать крупы, выпотрошить рыбы!.. Еще я училась, и требовалось хорошо приготовить все уроки. Ведь если бы я не числилась прилежной ученицей, то… Правда, никто мне об этом не говорил напрямую, но я прекрасно понимала, что это подразумевается, — меня вполне могли отослать в сиротский дом или еще в какое-нибудь не слишком престижное заведение, принадлежавшее ордену сестер-урсулинок.
Так что я пристрастилась к чтению в весьма юном возрасте. Не существовало книги, которая мне оказалась бы не по зубам. А что за книги хранились в библиотеке! Многие из них были просто удивительны, хоть мне и попадались порою сочинения по теологии, которую я ненавидела, и целые стопки виршей, проникнуть в сокровенный смысл которых мне так и не удалось… Кажется, мне было лет десять, когда я принялась изучать греческий под наставничеством сестры Марии де Монмерси. Я ушла в него с головой, но лишь до тех пор, пока не открыла для себя латинский язык, которому и принесла клятву верности, как вассал своему сеньору. Я поняла: это мой язык! Меня привлекала присущая ему рациональность, и строение предложений открывалось мне, доставляя наслаждение, как разгадывание отлично придуманной головоломки. Не хочу сказать, что фразы из Эсхила и Цицерона так и слетали с моего языка, когда я бродила по монастырю, но со временем я действительно стала владеть латынью и греческим свободно. Конечно, немало часов я посвятила и тому, чтобы совершенствовать знание французского и его братьев — итальянского и испанского. Прилежно корпела я и над английским, и над немецким языками в уединенной своей комнатке, причем прилежно в равной степени, хотя мне нравились мириады исключений в первом из них и отталкивало гортанное кудахтанье второго. Мне приходилось полагаться при этом исключительно лишь на имевшиеся у меня тексты и на собственную сообразительность, потому что по-английски в монастыре не говорил никто, а немецкий знала только одна монахиня (дряхлая сестра Габриэлла, вся помощь которой в овладении нюансами произношения сводилась к неодобрительному покачиванию головой).
Математика, чистописание, география… Все это было слишком просто, а потому неинтересно; с этими предметами я справлялась легко. (Не слишком скромно, зато правда.) В учебе я вскоре оказалась впереди всех и даже заслужила право ежедневного доступа — увы, лишь на один час — к личной библиотеке самой матери-настоятельницы Марии-дез-Анжес.
О, что за библиотека!.. Роскошные переплеты из мягкой кордовской кожи. И голубой дымок, всегда, казалось, витавший там в воздухе (матушка Мария-дез-Анжес любила побаловать себя тончайшими испанскими сигарками, en vie privee . ) Солнечный свет просачивался в библиотеку сквозь два больших витража из баварского стекла. Пестрота бликов завораживала, вызывая трепет. Обычно я садилась так, чтобы разноцветные лучики скользили по строчкам, которые я читаю… Воспоминания о часах, проведенных в библиотеке матери-настоятельницы, — лучшее из всего моего детства; я рада, что они у меня были, потому что все остальное — это воспоминания о хаосе, взявшем верх над порядком.
Порядок? Вообще-то жизнь в монастыре являлась вполне упорядоченной. Все наши дни расписывались по часам. То были часы богослужебные, в которые предписывалось читать или петь те или иные молитвы: сперва шла Утреня, затем следовало Великое Славословие, потом шли службы Первого часа, Третьего и Шестого, затем Девятого, за ними Вечерня и Повечерие. После Славословия мы один час учились, затем колокол созывал всех воспитанниц к завтраку, состоявшему из ломтя белого хлеба (восхитительно теплого по четвергам и понедельникам), толстого кружка холодного сливочного масла и кофе. Мы ели молча, сидя на скамьях за длинными деревянными столами. На нас надевали простые серые передники, на рукавах топорщились белые тюлевые буфы (теперь это выглядело бы так необычно!); волосы были заплетены в косички или заправлены под шапочку из белой замши.
Завтрак длился полчаса. Затем иногда служили малую Мессу, но чаще сразу после него продолжались занятия. Затем шла служба Третьего часа либо — по праздникам — торжественная большая Месса. Потом снова уроки. Иногда младшим девочкам устраивали пятнадцатиминутную переменку, во время которой те получали черный хлеб и воду. Три раза в день, согласно распоряжению матери-настоятельницы, звучал Ангелус — колокол, призывавший нас молитвенно вспомнить о Боговоплощении.
Главная трапеза начиналась в полдень, по-французски Meridienne . В отличие от Англии, где обедают вечером, она называлась обедом и состояла из овощей с монастырского огорода, но иногда из тушеной дичи или рыбы, которую Мария-Эдита выклянчивала «Бога ради» у рыбаков на причале. Иногда же нас угощали вином из богатых погребов, о пополнении запасов в которых непрестанно заботилась мать Мария-дез-Анжес. Кормили нас хорошо — наверное, благодаря ее присутствию в трапезной: у нее был вкус… как бы это сказать… к маленьким удовольствиям жизни. (Я прислуживала за столом и ела после всех остальных девочек, в компании с работницами и престарелыми немощными монахинями. Однако данное обстоятельство никогда не унижало меня, хотя порою мне намекали, что в нем есть нечто постыдное.)
После обеда — прогулка, отдых или молитва; выбор зависел не от нас. Затем служба Шестого часа. Снова учеба. Вечерня. Молитва. Учеба. Легкий ужин: фрукты или сыр. Повечерие. И наконец сон. Небольшое послабление нам давали только во время летних каникул, когда большинство девочек покидали С*** и отправлялись к семьям; многие монахини тоже отпрашивались из монастыря кто куда.
…Что до моей жизни в С*** — я старалась тянуть лямку. Находила прибежище в упорядоченности жизни монастырской школы, в несмолкаемом тиканье церковных часов; каждый день все одно, одно, одно… Я все глубже уходила в учебу.
…И все-таки нужно сказать еще кое о чем. Не хочется, но надо. И я скажу.
В школу монастыря С*** присылали девочек определенного круга, и порой мне казалось, что немилосердное Провидение нарочно забросило меня туда, чтобы напоминать им о множестве имеющихся у них предо мной преимуществ. Эти создания были словно кружева по сравнению с дешевой тканью моих сорочек, словно бриллианты по сравнению с моими убогими побрякушками. По достижении зрелости им предстояло взойти в иные сферы. Отцы их нажились на торговле; и хотя перед их дочерьми задирали нос некоторые из девиц, в чьих жилах текла кровь более голубая — по сравнению с теми, кого они называли «простушками», — те все-таки были богаты. Они любили болтать о приданом и бриллиантах; о том, куда собираются выехать их papa и mama и с кем именно: поиграть в поло с кронпринцем какого-нибудь немецкого княжества, на скачки — с известным индийским раджой, позавтракать в Париже — с некой шведскою баронессой, et cetera, et cetera… Они говорили на языке, который не был моим .
Ну и прекрасно. Пускай из Парижа мне никогда не присылают перевязанных ленточками посылок. Мне, разумеется, не суждено провести лето в местах, где разговаривают не по-французски. Меня никогда не вывезут куда-нибудь «на воды». И никогда никто не закажет какой-нибудь пустячок для скрипки и фортепиано, чтобы его сыграли на мой день рождения. Тут ничего не поделаешь.
И все-таки, несмотря на мою застенчивость и на то, что другие девочки не видели меня в упор, я стала любимицей некоторых из монахинь еще в самом нежном возрасте. Порою внимание, которое те уделяли мне во время занятий, вгоняло меня в краску. В частности, одна из монахинь, похоже, влюбилась в меня без памяти. На занятиях она смотрела на меня во все глаза, каждый вопрос адресовался мне, каждый ответ преподносился мне, словно дар. Со временем такое внимание пошло на убыль; но все равно порою я не могла оторвать взгляда от своих рук (столь предосудительно больших!) или от ельника за окном классной комнаты — лишь бы не встретиться глазами с уставившейся на меня учительницей. Особенно это касалось одной из монахинь… Конечно, мне было невдомек, что ей могло быть нужно; теперь-то я могу отважиться сделать предположение, потому что с тех пор многое узнала о жизни женщин, запертых в монастырских стенах, но тогда мне такое и в голову не приходило.
Возможно, подобные знаки внимания со стороны монахинь и вызывали у других девочек некоторую неприязнь ко мне, но я старалась этого не замечать. Пускай болтают что хотят, думала я. Получала ли я удовольствие, вызывая у них зависть? Возможно. Ведь у меня не было ни их богатства, ни их красивой, легкой жизни. Так пусть завидуют мне хотя бы на уроках.
Разумеется, чем больше внимания уделяли мне монахини, тем сильнее отдалялась я от сверстниц; одно равнялось другому, и данное уравнение не могло быть решено в мою пользу. Да я и не пыталась, а только еще сильней набрасывалась на учебу. Для меня не существовало ничего, кроме книг. Я ими жила.
Однако спустя несколько лет после приезда в С*** я начала кое-что понимать. Например, почему живу на особом положении, в разладе с другими воспитанницами, с разладе с самою собой… Потом я начала замечать, как изменяется мое тело. Внешность моя претерпевала перемены, которых я не могла не стыдиться. Другие тоже менялись: некоторые воспитанницы рано превратились в женщин. Но ничто из происшедшего с ними не напоминало того, что случилось со мной, и это меня тревожило. Напрасно ждала я, когда пополнею, — судьба и здесь меня обделила.
Конечно, в большинстве своем наши девицы были весьма простоваты, но мне они казались совершенством, изящными, словно куколки в кружевных белых платьицах. Одна, как я припоминаю, носила камею с изображением своей матери, скончавшейся при родах, на шелковой ленточке цвета зеленого яблока. Другой, бледной и болезненной, порою разрешали надеть жемчужные сережки, присланные с Азорских островов отцом, — и в этих украшениях, похожих, как я теперь понимаю, на застывшие слезы, было так много символичного. Меня буквально тянуло к ней. (Гордость мешает мне назвать здесь ее имя. Да и слово «подруга» было бы не вполне точным.) Хрупкая, часто болевшая, она жила вне интересов «женского клуба», которые столь волновали прочих девиц. Причины, от нас не зависящие поставили и ее, и меня вне их общества: она была хворая, а я… alors , это была я. Порою она проявляла ко мне доброту; непривычная к этому и всегда начеку, я, однако, стала принимать знаки внимания с ее стороны и старалась, в свою очередь, отвечать тем же… Ни одно из добрых дел, хотя бы самое незначительное, не забывается никогда; в это я твердо верю. Добрые дела, словно золотые монеты, всегда в обращении, всегда ходят по свету, принося людям радость. Но есть и нечто противоположное доброте, оно хорошо мне знакомо, но не заслуживает, чтобы его называли по имени.
…Разумеется, все наши девицы, словно явившиеся в наш мир из царства моих грез, казались мне их земным воплощением. Они были тем, чем я желала бы стать, но не могла. Поймите: тогда я мечтала перемениться. Мечтала: а вдруг я созрею еще и стану хоть отдаленно напоминать ту, кем казалась мне каждая из них, то есть сделаюсь красивой девушкой. Но я была… неизящная, лишенная грации, длинная жердь. Со временем я рассталась с подобной мечтою и примирилась со своей судьбой, со своей телесной оболочкой, данной мне свыше, в своем роде единственной.
Я и прежде отличалась высоким ростом, но лет в тринадцать-четырнадцать я вытянулась и стала на целую голову выше любой другой девочки в С***. Но фигура моя оставалась угловатой, ей недоставало мягко очерченных линий. Мои сверстницы были пышечки, а я — кожа да кости. Руки и ноги стали такими длинными, что это смущало меня, а кроме того, необычайно сильными. (О, как я вспыхивала, когда сестра Бригитта просила достать с буфета кувшин, или открыть дверь, которую заклинило, или откупорить бутылку вина, если в той очень туго засела пробка!)
Даже черты моего лица стали меняться — конечно, почти незаметно, однако мне эти перемены казались внезапными и ужасающими. Лоб увеличился и стал выпуклым, скулы приподнялись и еще более выступили вперед. Глаза меня тоже тревожили: они казались окнами в мой тайный мир, и я боялась встретиться взглядом с другими людьми. (Глаза были правильной формы и необычного зеленовато-синего цвета… Добавлю, что мне о них недавно сказали, будто они напоминают переливы морской волны на мелководье.) Нос мой, прежде слегка вздернутый и, пожалуй, даже курносый, преобразился, приняв нынешний благородный вид; он стал настолько прямым, что его можно назвать римским; но в то время он казался мне страшно длинным. Губы обрели полноту и теперь обрамляли слишком, увы, большой рот. На безупречно чистой коже лица, всегда готовой вспыхнуть, залиться краской, играл здоровый румянец; другим девицам для достижения того же результата приходилось пудриться или щипать себя за щеки. Что же касается шеи, то я считала ее просто уродливой: она была не просто длинная и тонкая, а очень тонкая и очень длинная. Волосы в ту пору напоминали мне о соломе: непокорные, ломкие и густые. Я заплетала их в тугую косу, которая свисала с затылка, разделяя спину на две половинки. Лентами я не пользовалась никогда. Старалась не привлекать к себе внимания… Ноги? Ах, какой они пробуждали во мне ужас! Теперь даже смешно, ей-ей, но тогда я изо всех сил старалась их скрыть. Подобно сестрам Золушки, я нашла себе пытку — туфли, которые были меньше на несколько размеров. А чтобы спрятать руки, похожие на руки великанши, я надевала перчатки. |
| Категория: Книга-загадка, книга-бестселлер
|
|
|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация |
Вход ] |
|