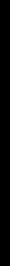РАЗНЫЕ СТОРОНЫ СВЕТА РАЗНЫЕ СТОРОНЫ СВЕТА
Анатолий Мариенгоф родился в Нижнем Новгороде, с отцом уехал в Пензу, там провёл юность.
Борис Корнилов — вырос в керженецких деревнях, юность началась в уездном городе Семёнове и продолжилась в Ленинграде.
Владимир Луговской — москвич.
Мы только начинаем чертить разделительные линии.
Мариенгоф — сын еврея-выкреста и русской дворянки.
Корнилов — крестьянского рода, горожанин в первом поколении, ребёнок сельского учителя, подрабатывавшего извозчиком, и дочки небогатого купца, тоже ставшей учительницей.
У Луговского — оба деда православные священники, отец — столичный преподаватель, истинный русский интеллигент, мать — певица.
Мариенгоф был имажинистом, а Луговской конструктивистом. Корнилов эпоху литературных групп, в сущности, миновал, но если б начал публиковаться на пять лет ранее, его, хоть и не на полных основаниях, могли прописать по ведомству «крестьянских поэтов».
Мариенгоф — модернист, революционный эксцентрик, мастер эпатажа. Лучшие стихи им написаны в самом начале 1920-х.
Корнилов — порой даже вопреки собственным установкам — песенный, почвенный, расширяющий классическую традицию, но осмысленно не преодолевающий её. Известность к нему пришла в начале 1930-х, лучшие стихи сочинены в середине тридцатых.
Луговской — трибун и лирик в одном лице; поэт, изначально пошедший по линии Маяковского и отчасти Багрицкого: когда мощный голос, необычайный дар поставлен на службу эпохе. Стал известным в конце 1920-х. Но дальше происходит надлом — дара и голоса ему хватило, однако не хватило человеческих сил на эпоху. Парадоксальным образом наивысший взлёт его поэзии — это как раз время надлома: ташкентская эвакуация в годы Отечественной. Хотя, конечно, неподражаемые вещи получались у него и во второй половине двадцатых, и в конце тридцатых, и в пятидесятые.
Мариенгоф — это непрестанное, неутомимое желание вызвать раздражение (а втайне — восторг), но очень скоро его настигают скепсис и разочарование.
Корнилов — попытка преодоления тягостного предчувствия гибели, искренняя отзывчивость на вызовы времени и одновременно иррациональная уверенность в том, что наставшая новь убьёт его.
Луговской — изначально оптимизм и маршевая поступь, нарочитая самоуверенность, нарочитая воинственность, голосистость, а в итоге — в чём-то заслуженный удар под дых, временный, но кошмарный разлад души — с необычайной мощью преодолённый.
Мариенгоф в конце 1920-х бросил писать стихи, осмысленно жил на краешке эпохи, иногда был не прочь занять места побольше, но вскоре же осознавал: первый ряд бьют больнее.
Борис Корнилов был репрессирован.
Луговской стал маститым советским поэтом.
Все трое жили в одно время, и часто в одних и тех же местах, но едва ли всерьёз встречались, в лучшем случае — мельком.
Пока Мариенгоф был в революционной Москве заметен и в силе — Луговской учился на красного командира.
Когда Мариенгофа называли среди самых заметных персонажей молодой советской литературы — Луговской и Корнилов были ещё неразличимы.
Но когда Николай Бухарин называет на Первом Всесоюзном съезде советских писателей в числе самых видных поэтов СССР на 1934 год Корнилова и Луговского, — Мариенгофа уже подзабыли.
Все трое близко общались с одними и теми же людьми, но в разное время.
Человек, жавший руку Луговскому, вчера или на другой день мог жать руку Корнилову или Мариенгофу. Таких людей были десятки. Но я не удивлюсь, если эти трое так и не поздоровались ни разу.
Сергей Есенин был одним из любимейших поэтов Бориса Корнилова, и — в течение четырёх лет — ближайшим другом Анатолия Мариенгофа.
Режиссёр Всеволод Мейерхольд хотел ставить в 1921 году драму Мариенгофа, а в 1935 году — драму Корнилова. Но когда Корнилов дружил с Мейерхольдом — Мариенгоф с Мейерхольдом уже не был дружен.
Корнилов много общался с Шостаковичем в первой половине 1930-х, а Мариенгоф — во второй половине 1930-х, и далее общение их продолжалось. Но Корнилова тогда уже не было в живых.
Луговской в молодости дружил с будущим режиссёром Всеволодом Пудовкиным — а много после Пудовкин был дружен с Мариенгофом.
Поэт Николай Тихонов часто поддерживал Корнилова, оба они жили в Ленинграде и часто виделись, но по-настоящему дружен был Тихонов именно с Луговским.
Луговской вступил в РАПП вместе с поэтом Эдуардом Багрицким в 1930 году. А в 1933 году Багрицкий подарил Корнилову ружьё.
Полузабытый Мариенгоф и попавший в опалу Корнилов в 1936 году публикуются в одном и том же журнале — «Литературный современник», оба бывают в редакции.
Михаил Зощенко был соседом через стенку Бориса Корнилова по писательскому дому на канале Грибоедова в Ленинграде — а в ташкентскую эвакуацию Зощенко едет вместе с Луговским, в одном вагоне.
Где они всё-таки хотя бы раз встречались?
Луговской мог столкнуться с Корниловым на Первом Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году. Но там было несколько сотен делегатов — могли и разминуться.
Мариенгоф имел шанс столкнуться с Корниловым на любой из посиделок в писательском доме, куда часто заходил. Но мог оказаться на другом конце стола и не перекинуться и словом.
В 1935 году Луговского и Корнилова в числе группы литераторов привозят на дачу к редактору газеты «Правда» Льву Мехлису — но там всё было на скорую руку, нервно, скомкано: вполне допустимо, что они и глазами не встретились ни разу.
Никто из троих не упоминал друг друга в своих текстах.
Никакого интереса никто из них друг к другу не проявлял.
Эстетика их не совпадала.
Едва ли и у меня есть возможность объяснить, что их объединяет, кроме времени.
Мариенгоф — не был великим поэтом, но в его случае всё однажды прекрасно совпало: революция, поиски, чутьё, дружба. Когда это ушло — закончилась его поэзия.
Корнилов — был поэтом с огромными задатками и одним из тех, кого действительно морально, а следом физически убило время политических склок, доносов, репрессий, предчувствия войны, противостояния, индустрии, огромного темпа, чудовищного катка.
Луговской — безусловно был великим поэтом, но не самым сильным человеком. Он злил и дразнил судьбу — судьба пришла и наступила на него.
Общее у них, пожалуй, только одно: как поэты они теперь почти забыты.
Мариенгофа вспоминают в связи с Есениным, мемуары Мариенгофа переиздаются непрестанно, но на интерес к его поэзии это странным образом никак не влияет.
Корнилова вспоминают в связи с репрессиями — и очень часто те люди, которые не репрессированных литераторов того же, обобщённо говоря, крестьянского направления не знают, знать не желают и никогда о них не говорят.
Луговского вспоминают то в связи с Евтушенко, то в связи с Бродским — они оба, мало в чём сходясь, считали Луговского огромным мастером.
Биографии всех троих персонажей этой книги в целом известны специалистам, но ряд ошибок кочует из одной работы в другую; да и сомнительные трактовки тех или иных их поступков зачастую повторяются.
Впрочем, я не ставил целью кого-либо выводить на чистую воду.
Просто когда-то, раз за разом, мне довелось влюбиться в стихи этих поэтов — до какого-то терпкого, почти болезненного чувства.
Книжка Мариенгофа, известного мне лет с девяти, попала наконец-то в мои руки в 1997 году; тогда я был влюблён, и чувство влюблённости, и строчки раннего Мариенгофа — всё это дало ощущение небывалого восторга перед жизнью, хотя, казалось бы, Мариенгоф вообще не об этом.
Корнилов пришёл чуть раньше или чуть позже, но в те же 1990-е годы; удивление было такое, что воздуха порой не хватало — какая тревожная, звериная сила в этих стихах, откуда? Недавно прочитал его поэму «Моя Африка» — странно, что до сих пор мне не приходило в голову порадоваться этой кипящей, с перехлёстом сил вещи.
Луговской всю жизнь был где-то рядом, но всерьёз я прочитал всё им написанное года три назад. С тех пор он, трезво, осознанно и непререкаемо, — один из самых моих любимых поэтов на земле.
Я перечитываю их стихи непрестанно.
Смотрю на них, как в разные стороны света.
Мариенгоф — это всё-таки запад, Корнилов — скорее север, Луговской — юг.
Мои чувства к ним не оставляют меня, и уже не оставят.
Конечно же, любовью надо делиться. И надежда на отклик — не так обязательна, как кажется. В конце концов, я могу делиться своей любовью с теми, о ком написал.
Эта книга — не более чем попытка пожать руку каждому из них. Склонить голову перед ними.
«В ТО ВРЕМЯ ЛИРЫ ПЕЛИ, КАК ГРОЗА…»
Жизнь и строфы Анатолия Мариенгофа
Как ни странно, начнём с чужого стихотворения.
Однажды Есенин назначил свой день рождения в ночь с 6 на 7 июля.
Расцвет лета, языческий праздник — день Ивана Купалы, венки по воде — всё это привлекательно и таинственно, в такую ночь родиться хорошо.
«Матушка в Купальницу по лесу ходила… / Охнула, кормилица, тут и породила», — писал он о своём рождении, которое на самом деле случилось осенью.
А 6 июля (по новому стилю), в 1897 году, родился Анатолий Мариенгоф.
Отец поэта, Борис Михайлович Мариенгоф — еврей-выкрест, человек красивый, дельный, образованный, имевший что-то вроде собственной аптеки и, кстати сказать, бывший под надзором местной полиции по поводу своих неблагонадёжных взглядов.
Борис Михайлович происходил родом из города Митавы Курляндской губернии, окончил привилегированное учебное заведение в Москве (успев отучиться до введения в 1887 году процентной нормы для евреев, отменённой только в 1916-м).
В 1885 году он отбывал воинскую повинность, будучи зачисленным в ратники ополчения. Затем из мещан города Митавы причислен к Нижегородскому купечеству, и 4 мая 1894 года новокрещён в Нижнем Новгороде. Что, скорее всего, было жестом вынужденным: впоследствии отец походам в церковь предпочитал походы в нижегородский аристократический клуб и, мало того, по признанию сына, «очень не любил попов»; с другой стороны, их тогда модно было не любить в среде русской интеллигенции — так что Борис Михайлович соответствовал общим настроениям.
Заметим также, что Борис Михайлович, говоря о русском национальном характере, произносил «наш характер», безоговорочно относя себя и сына к титульному народу.
В мемуарной книге «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» Анатолий Мариенгоф описывает деда по отцовской линии так: «Красавец в цилиндре стального цвета, в сюртуке стального цвета, в узких штанах со штрипками и чёрными лампасами. Он был лошадник, собачник, картёжник, цыганолюб, прокутивший за свою недлинную жизнь всё…» Персонаж скорее литературный, нежели хоть сколько-нибудь напоминающий представителя российского еврейства середины XIX века. Надо сказать, что деда своего Мариенгоф никогда не видел и мог лишь воспользоваться рассказами отца, который, к счастью, не был ни цыганолюбом, ни лошадником; хотя в карты поигрывал.
Матушка Анатолия Мариенгофа, Александра Николаевна, урожденная Хлопова, была дворянских кровей; иногда считается нужным подчеркнуть — из обедневшего дворянского рода.
Детство Александры Николаевны прошло в имении под Арзамасом.
Обеднённость была, в общем, относительной: в Нижнем Новгороде Александре Николаевне принадлежал деревянный одноэтажный дом с мезонином, находившийся в первой Кремлевской части — в самом центре города, на Лыковой Дамбе. В 1910 году стоимость дома составляла 301 рубль. Кроме того, ей принадлежал ещё один деревянный дом в городском районе, именуемом Мыза.
У матери была сестра Нина, жившая в Москве, незамужняя и бездетная, работавшая классной дамой в женском Екатерининском институте; раз в год она присылала обожаемому племяннику Толе по сто рублей.
Похоже, женитьба Мариенгофа на Хлоповой была выгодна обеим сторонам.
В «Посемейном списке мещан Н<ижнего> Н<овгорода> за 1895 год» отмечено, что их брак был зарегистрирован 26 сентября 1894 года.
На семейных фотографиях мы видим внешне обрусевшего, с чеховской бородкой, безупречно одетого, красивого Бориса Михайловича и Александру Николаевну — с приятным, но чуть тяжёлым, властным лицом.
В поэме «Развратничаю с вдохновением» Мариенгоф утверждал, что родился на Лыковой Дамбе. Скорее всего, так и было — роды могли произойти в дворянском родовом доме, если только Анатолий Борисович не прихватил эту деталь по причине прямых ассоциаций с выражением «лыко в строку».
Акушерку Елену Борисовну сразу после родов свезли в психбольницу, у неё начался припадок. Если б мальчик вырос, например, в диктатора, в этом можно было бы обнаружить мистический смысл.
В нижегородском ежегоднике «Адрес-календарь за 1911 год» алфавитный указатель жителей Нижнего Новгорода говорит нам, что торговец Борис Михайлович Мариенгоф проживает уже не в доме Хлоповой на Лыковой Дамбе, а по адресу: улица Большая Покровская, дом 10 (позже дому, в котором жили Мариенгофы, добавлена литера, и его сегодняшний адрес — Большая Покровская, 10 «В»).
Именно это место жительства описывает Мариенгоф в своих воспоминаниях. Дом по сей день стоит на том же месте, всё такой же снаружи, и даже лестницы, по которым бегал маленький Толя, — те же. Они жили на последнем, четвёртом этаже.
На детских фотографиях он ангелоподобен, у него, по моде того времени, длинные волосы, что делает Толю похожим на девочку.
«Нижний! Длинные заборы мышиного цвета, керосиновые фонари, караваны ассенизационных бочек и многотоварная, жадная до денег Всероссийская ярмарка. Монастыри, дворцы именитого купечества, тюрьма посерёдке города, а через реку Сормовские заводы…» — вот воспоминания Мариенгофа.
В доме — мопс Нерон, добрая нянька. Мальчик — пока единственный ребёнок в семье.
Мариенгоф вспоминает отвратительную историю, как он устроил невероятную истерику из-за того, что старенькая няня не стала доставать ему мяч, закатившийся за диван.
Дело дошло до того, что няню уволили, многократно извинившись и дав три золотые десятирублёвки (поверим автору, но такая щедрость всё-таки кажется перебором).
Мама просит прощения: «Ах, голубушка, тут уж ничего не поделаешь, ведь Толечку принимала сумасшедшая акушерка».
(Сравните со строчкой из поэмы Мариенгофа «Магдалина»: «Я ведь имею честь / Лечиться у знаменитого психиатра».)
Надо сразу сказать, что это одна из характерных для сочинений Мариенгофа черт — предельная откровенность. В молодости эта черта имела в его случае вид вызывающе цинический; собственно, цинизм тогда воспринимался им и его товарищами по ремеслу как эстетический приём.
В зрелости та же самая черта приобрела вид иной: пожалуй, в этом можно было бы обнаружить почти христианское смирение и самоуничижение, если б не отдельные «но».
Мариенгоф необычайно почитал Льва Толстого — и наверняка не раз сталкивался с яростной саморазоблачительностью, особенно характерной для позднего Толстого. Наследуя тому, кого он считал учителем, и сам Мариенгоф неизменно пытается показать, до какой степени низости он, — казалось бы, мыслящий, не злой, благовоспитанный человек — доходил не раз и не два.
Но в этом порой, как мне кажется, скрыта определённая авторская корысть, так и не избытое с юности желание удивить: вот какой я, полюбуйтесь.
Достаточно сказать, что, описывая те или иные свои выходки или откровенно подлые поступки, Мариенгоф периодически наговаривал на себя и брал вины куда больше, чем заслуживал по факту совершённого.
Ещё когда он учился в гимназии, умерла мать — Александра Николаевна.
Это первая страшная и преждевременная смерть в его жизни. У матери был рак желудка.
В мемуарах «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги», написанных более полувека спустя, в 1950-х, он расскажет о детской реакции на смерть матери: «О как я ругал Бога! Какими ужасными словами!»
В этом детском богохульстве, конечно же, слышна великая боль о матери. Чего не скажешь о фразе в автобиографии Мариенгофа 1930 года: «Во время предсмертной агонии моей матери я играл в футбол. Я был капитаном команды и центрфорвардом».
Не в том беда, что он играл в футбол — рак не та болезнь, что уносит человека в одни сутки, и едва ли ребёнок способен отказаться от игр на все те месяцы или даже недели, пока болезнь длится. Беда в том, что 33-летний Мариенгоф мог бы этого и не писать. Но он уже выбрал себе роль к тому моменту — циника и паяца — и следовал ей неизменно.
В конце концов, надо заметить, после слов о центрфорварде Мариенгоф добавляет уже по-человечески: «Матч я выиграл, а безоблачность детства проиграл. Его голубизна для меня осталась навсегда подёрнутой дымком, который ест глаза до слёз».
Мало того, в «Моём веке…» он утверждает обратное: что был при матери в последние её часы и успел с ней проститься.
Учитывая все позднейшие саморазоблачительные мистификации Мариенгофа, есть смысл предположить, что про футбол он наврал…
На руках отца остались Толя и его младшая сестра Руфина. Характерно, что в автобиографической книге «Мой век…» Мариенгоф ни разу не называет её по имени. Сыграли свою роль не очень близкие отношения с сестрой — или здесь нежелание оглашать имя, имеющее явную этническую окраску? В любом случае, слово Бориса Михайловича в семье имело явный вес — едва ли нижегородской дворянке Хлоповой могла прийти в голову мысль назвать свою первую дочку Руфиной.
«С восьми лет / Стал я точить / Серебряные лясы», — пишет Мариенгоф в стихах; вполне возможно, что и с восьми; в любом случае ещё в нижегородской гимназии Мариенгоф увлёкся сочинительством, организовал поэтический кружок и выпустил номер юношеского журнала «Сфинкс».
«В памяти — один пожар в Нижнем, — напишет Мариенгоф в «Романе без вранья». — Горели дома по съезду. Глядишь — и как это не скувыркнутся домишки. Под глиняной пяткой съезда, в вонючем грязном овраге — Балчуг: ларьки, лавчонки, магазинчики со всякой рухлядью. Большие страсти и копеечная торговля.
Когда вспыхнул съезд, а ветер, вздымая клубами красную пыль, понёс её к Балчугу, огромная чёрная толпа, глазеющая на пожар, дрогнула. Несколько поодаль стоял человек почти на голову выше ровной чёрной стены из людей. Серая шляпа, серый светлый костюм с красной искоркой, жёлтые перчатки и жёлтые лаковые ботинки делали его похожим на иностранцу. Но глаза, рот и бритые, мягко округляющиеся скулы были нашими, нижегородскими
Стоял он, как монумент из серого чугуна. И на пожар-то смотрел по-монументовски — сверху вниз Вдруг кто-то шёпотом произнёс его имя. Оно обежало толпу. И тот, кто соперничал с чугуном, стал соперничать с пламенем».
Это был Фёдор Шаляпин.
«Несколькими часами позже я встретил свой монумент на Большой Покровке — главной нижегородской улице. Несколько кварталов прошёл я по другой стороне, не спуская с него глаз. А потом месяца три подряд писал по пять стихотворений в сутки, чтобы только приблизить срок прекрасной славы и не лопнуть от нетерпения, ожидая дня, когда в мою сторону станут тыкать бесцеремонным пальцем».
В упомянутой выше автобиографии Мариенгоф опишет другую версию: первые стихи к нему пришли в возрасте примерно тринадцати лет в гимназическом карцере, куда он угодил за то, что не встал при исполнении «Боже, царя храни» в нижегородском театре — просто потому, что не разбирался в музыке и не угадал эту мелодию; но здесь перед нами очередная, в стиле Мариенгофа, выдумка.
Уже с ранней юности Мариенгоф — театрал: в 50 метрах от его дома — Театр драмы, он посещает его вместе со своей первой любовью — Лидочкой.
Анатолий — поклонник символистов, в первую очередь Брюсова и Блока: «Блоком я бредил и наяву и во сне».
Он поступает в Дворянский институт — «с осени я уже буду расхаживать в чёрных суконных брюках и длиннополом мундире с красным воротником, как у предводителя дворянства», — но окончить его не успевает. |